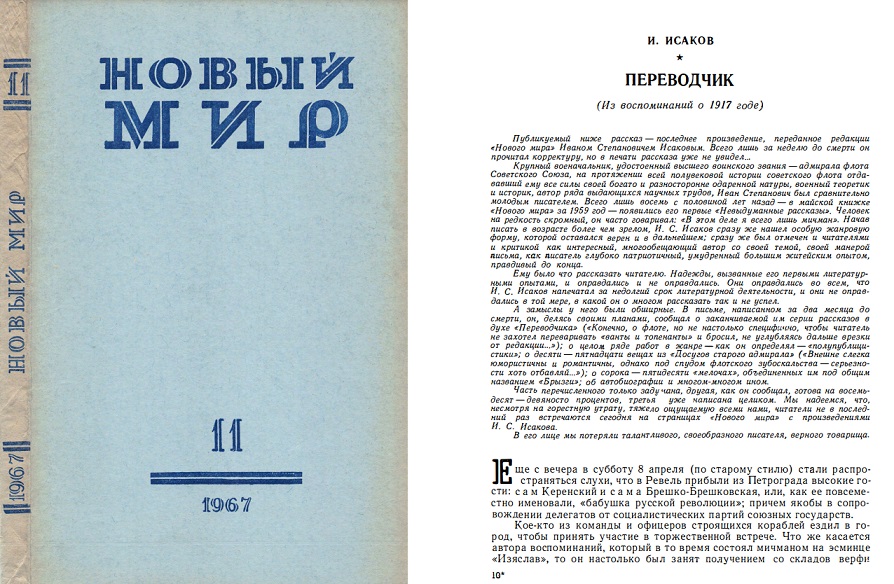И.С. Исаков передал свой рассказ “Переводчик” в 1967 году в журнал “Новый мир”, согласовал корректуру, но так и не увидел его после выхода тиража. С уходом Ивана Степановича практически ушло и его имя со страниц журнала. В предисловии-некрологе редакция тогда, в 1967 году высказалась о том, что журнал продолжит публикации “крупного военачальника”, “богато и разносторонне одаренной натуры”, писателя с найденной им “особой жанровой формой”… Это была оценка редакторов журнала, искренне уважавших и печатавших Исакова в течение нескольких лет – Константина Симонова и Александра Твардовского. К сожалению, после них, после 1970 года при пяти сменяющих друг друга редакторах в журнале был всего один материал Исакова. Один – в 680 номерах в прошедшие полвека. Подробнее об этом – в отдельной заметке на этом сайте “Хачмерук”.
От редакции журнала «Новый мир»
Публикуемый ниже рассказ – последнее произведение, переданное редакции «Нового мира» Иваном Степановичем Исаковым. Всего лишь за неделю до смерти он прочитал корректуру, но в печати рассказа уже не увидел…
Крупный военачальник, удостоенный высшего воинского звания – адмирала флота Советского Союза, на протяжении всей полувековой истории советского флота отдававший ему все силы своей богато и разносторонне одаренной натуры, военный теоретик и историк, автор ряда выдающихся научных трудов, Иван Степанович был сравнительно молодым писателем. Всего лишь восемь с половиной лет назад – в майской книжке «Нового мира» за 1959 год – появились его первые «Невыдуманные рассказы». Человек на редкость скромный, он часто говаривал: «В этом деле я всего лишь мичман». Начав писать в возрасте более чем зрелом, И. С. Исаков сразу же нашел особую жанровую форму, которой оставался верен и в дальнейшем; сразу же был отмечен и читателями и критикой как интересный, многообещающий автор со своей темой, своей манерой письма, как писатель глубоко патриотичный, умудренный большим житейским опытом, правдивый до конца.
Ему было что рассказать читателю. Надежды, вызванные его первыми литературными опытами, и оправдались и не оправдались. Они оправдались во всем, что И. С. Исаков напечатал за недолгий срок литературной деятельности, и они не оправдались в той мере, в какой он о многом рассказать так и не успел.
А замыслы у него были обширные. В письме, написанном за два месяца до смерти, он, делясь своими планами, сообщал о заканчиваемой им серии рассказов в духе «Переводчика» («Конечно, о флоте, но не настолько специфично, чтобы читатель не захотел переваривать «ванты и топенанты» и бросил, не углубляясь дальше врезки от редакции”.»); о целом ряде работ в жанре – как он определял – «полупублицистики»; о десяти-пятнадцати вещах из «досугов старого адмирала» («Внешне слегка юмористичны и романтичны, однако под спудом флотского зубоскальства – серьезности хоть отбавляй”.»); о сорока-пятидесяти «мелочах», объединенных им под общим названием «Брызги»; об автобиографии и многом-многом ином.
Часть перечисленного только задумана, другая, как он сообщал, готова на восемьдесят-девяносто процентов, третья уже написана целиком. Мы надеемся, что, несмотря на горестную утрату, тяжело ощущаемую всеми нами, читатели не в последний раз встречаются сегодня на страницах «Нового мира» с произведениями И. С. Исакова.
В его лице мы потеряли талантливого, своеобразного писателя, верного товарища.
ПЕРЕВОДЧИК
(Из воспоминаний о 1917 годе)
И.С. Исаков
“Новый мир”, №11, 1967 г., стр. 147-159
Еще с вечера в субботу 8 апреля (по старому стилю) стали распространяться слухи, что в Ревель прибыли из Петрограда высокие гости: сам Керенский и сама Брешко-Брешковская, или, как ее повсеместно именовали, «бабушка русской революции»; причем якобы в сопровождении делегатов от социалистических партий союзных государств.
Кое-кто из команды и офицеров строящихся кораблей ездил в город, чтобы принять участие в торжественной встрече. Что же касается автора воспоминаний, который в то время состоял мичманом на эсминце «Изяслав», то он настолько был занят получением со складов верфи различного рода инвентаря, что мысленно послал «бабушку» подальше, а сам лег пораньше спать, рассчитывая с утра продолжить приемку, несмотря на предстоящий воскресный день.
Утром за традиционным завтраком в так называемой береговой кают-компании всезнающий трюмный механик оповестил собравшихся, что высокие гости пожалуют в бухту Копли-лахт и, в частности, к нам, на верфь Беккера i-1 К0, видимо, намереваясь просветить тех, кто вчера не был на городском митинге. Итак, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе”. Но меня даже такая предусмотрительность столичных гостей не устраивала, так как грозила сорвать приемку снабжения, а до выхода в море на ходовые испытания оставались считанные дни. Накануне мне стоило немалого труда уговорить подчиненных «содержателей» 1 и боцмана продолжить работу по приемке, с тем чтобы рассчитаться с заводом. Как отнесутся они теперь к подобному предложению, если митинг состоится тут же рядом, на берегу Копли?
Офицеры восприняли новость по-разному. Председательствующий за столом начальник XIII дивизиона, строящихся миноносцев, бросая салфетку, изрек (очевидно, в неофициальном порядке):
– После пресловутого «Приказа № 1» Временного правительства я не вправе запретить или советовать кому-либо ходить или не ходить на митинг. Это дело совести каждого из вас”. Что касается меня, то я, конечно, на это сборище не пойду. Надо показать всем матросам, что я не считаю такой способ подходящим для решения кардинальных проблем вроде вопроса о продолжении войны или изъятия собственности у помещиков и фабрикантов.
Ничего нового в этой декларации не было, так как за полтора месяца, прошедших с момента февральской революции, все подчиненные не раз имели возможность ознакомиться с основами политической платформы нашего начдива. Вот почему, почтительно встав, мы молча проводили могучую спину капитана 1-го ранга Шевелёва, удалившегося в свой служебный кабинет.
Молодежь, с нескрываемым ликованием встретившая падение дома Романовых, предпочитала в подобных случаях отмалчиваться прежде всего из-за полной неграмотности в политических и социальных вопросах, от которых ее отгораживала вся система предшествующего воспитания и образования. Однако порой приходилось выслушивать махровые сентенции некоторых старших сослуживцев.
Не успела закрыться дверь за главным начальством, как всеми ненавидимый за нетерпимость к любой форме либерализма и за животную ненависть к матросам старший офицер «Изяслава» Алдайский прошипел, абсолютно не обращая внимания на присутствие вестовых:
– А я пойду на площадь! Но не сегодня, а когда наших дорогих товарищей большевичков будут вешать на фонарях. А что этот день скоро наступит, я не только верю, но и знаю. Знаю абсолютно точно.
При этом он вызывающе посмотрел на другой конец стола, где располагались упорно молчащие младшие офицерьr.
Молодой инженер-механик, числившийся среди нас «политиком», так как состоял в «ревельском отделении офицерского союза» и робко проповедовал идеи эсеров, покраснел до корней волос, но не рискнул лезть в словесную перепалку. Все остальные тоже воздержались, так как твердо знали одно: что Алдайский – крайний монархист, способный на всякую подлость, и своими собственными руками готов вешать не только матросов, но и любых не согласных с ним оппонентов. Ни один из присутствующих на завтраке не поднял брошенную перчатку, все разошлись молча, с брезгливой миной на лицах .
– – – –
1 В старом флоте содержателями назывались: подшхипер, баталер, минный и минно-машинные и прочие кладовщики, ведавшие хранением и учетом соответствующего инвентаря, инструмента и других видов снабжения.
… Когда молодой офицер получает ответственную должность на только что достроенном корабле новейшего типа, когда ему предоставляются полные – даже иногда чрезмерные – самостоятельность и доверие, а в то же время военная и политическая обстановка требует срочного ввода корабля в строй, тогда этот молодой офицер неизбежно заболевает убеждением, что его корабль самый лучший, самый красивый в мире.
Он лезет из кожи, чтобы оправдать доверие; он старается двадцать четыре часа в сутки выполнять свои служебные обязанности с особым рвением, пытаясь подтянуться к уровню знаний и авторитета своих старших и более опытных боевых товарищей; он способствует быстрейшему вводу в строй любимого «шипа», одновременно мечтая о том, чтобы как можно скорее потускнели его слишком новенькие звездочки на погонах. И если в этот период, на беду старательного мичмана, он не попадает в сферу непосредственного влияния такой партии, которая знает, во имя чего и в интересах кого собираются использовать этот новенький корабль, то он довольствуется общими патриотическими идеями о защите отечества и своего народа и, отдавая все силы на выполнение профессионального долга, наивно верит в то, что находится «вне политики».
Так было и со мной весной 1917 года.
После завтрака у дверей моей каюты собрались «орлы» – старшие унтер-офицеры сверхсрочной службы, воевавшие на миноносцах с лета 1914 года. Все они были артистами – каждый в своей области. Самым знающим среди них – после боцмана – был солидный, медлительный и уже пополневший подшхипер Коломийцев – он больше всех помогал своему желторотому командиру.
Всей группой двинулись к главному заводскому складу, который на матросском жаргоне именовался «Мюр и Мерилиз» 1• А через полчаса продолжилась кропотливая процедура приемки бесконечной номенклатуры, во время которой надо было и самому учиться, и делать вид, будто ты руководишь своими подопечными. Кроме того, иногда приходилось смотреть сквозь пальцы на некоторые не совсем законные махинации ловких и испытанных в подобных фокусах содержателей, тем более что в итоге все шло на благо любимого корабля. Моральным оправданием такого попустительства служило то, что технике и методам приемки от заводов не обучали ни в одном из морских учебных заведений, а… ошибиться всякий может.
Поведение сторон (вторая состояла из кладовщиков и младших бухгалтеров верфи, отборных ветеранов, некогда прослуживших полжизни на том же флоте) определялось древним, как само судостроение, обычным правом: корабельные содержатели во главе с боцманом старались получить обусловленное договором и прихватить сверх того все, что плохо лежит, но может пригодиться в судовом хозяйстве. Заводские церберы старались недодать положенное или подсунуть некондиционные предметы снабжения. Вот почему временами обстановка крайне обострялась и виртуозная матерщина, казалось, грозила вот-вот перерасти в рукопашную.
В один из очень конфликтных моментов, когда абсолютно неясно было, как утихомирить старых моряков, каждый из которых годился мне в отцы, в ворота склада просунул голову салажонок с «Гавриила», звонко крикнул: «Бабушка приехала! Митинг в малярном цехе!» – а также внезапно исчез. Очевидно, он был послан в качестве форзейля 1 для оповещения во все заводские закоулки.
– – – –
1 Самый большой универмаг старого Санкт-Петербурга.
Сообщение салажонка разрядило напряжение, как струя из брандспойта. Стараясь быть возможно более солидным, я подал команду:
– Приостановить приемку! Все на митинг!
Повторять не пришлось, новая ситуация устраивала всех присутствующих на складе. Еще через минуту наша группа взгромоздилась на железнодорожную площадку (подобие дрезины), при помощи которой содержатели доставлял и принятые вещи на корабль, стоявший у достроечной набережной. Естественный уклон к гавани позволял катиться под горку без всяких усилий или механизмов. Наоборот, при помощи вымбовки, используемой в качестве примитивного тормоза, временами приходилось стопорить, чтобы сходу не свалиться в бухту.
Надо сказать, никакого помещения малярного цеха пока еще на верфи не существовало. Мы остановили дрезину перед воротами огромного здания в лесах, запроектированного в качестве «главного сборочного», но еще не законченного постройкой. В одном из его углов бездомные заводские маляры устроили себе временное пристанище.
Когда наша компания, запыхавшись, наконец пополнила собой многолюдное собрание и осмотрелась вокруг, то оказалось, что митинг давно начался, а общая его картина была далеко не обычной.
Ретивые организаторы торжественной встречи избрали этот форум с определенным расчетом: апрель оказался довольно прохладным, и опасение потерять многих слушателей, собрав их на свежем воздухе, было вполне основательно.
Однако помещение было все же слишком оригинальным. Земляной пол без какого-либо покрытия, высоченные кирпичные, совершенно голые стены, огромные проемы для будущих окон, прикрытые редкими досками, пропускавшими тусклый, рассеянный свет. Кое-где валялись в песке бракованные отливки для поковки, выброшенные из других, действующих цехов.
Над густо пахнувшим скипидаром малярным углом вовсе не было перекрытия, и сквозь голые стропила виднелось еще хмурое весеннее небо и веяло потоками холодного воздуха с изредка падающими снежинками.
Наиболее своеобразным являлся импровизированный помост для почетной гостьи и доморощенных ораторов.
Устроители митинга догадались использовать большое и грубо сколоченное сооружение, стоявшее вдоль одной из стен и напоминавшее верстак для холодного гнутья труб.
Так вот, на него взгромоздили новенький письменный стол на точеных рояльных ножках, а сзади приладили роскошное кресло с непомерно высокой спинкой, явно заимствованное из кабинета одного из директоров.
По краям этого престола, воздвигнутого для «бабушки», оставались две небольшие площадки в виде карнизов, с которых и выступали ораторы, придерживаясь за край стола, с тем чтобы чувствовать себя более уверенно.
Суетливыми усилиями свиты «бабушку» водрузили в роскошное кресло; по обе стороны замерли со сценической торжественностью – не то в качестве пажей, не то чинов почетного караула – два матросика в совершенно новом, слишком уж выутюженном обмундировании.
– – – –
1 Фор з е ii ль – легкий, быстрый корабль любого типа, высылаемый впереди эскадры с целью разведки, дозора или связи.
В довершение всего какой-то идиот додумался надеть на голову «бабушке» матросскую ленточку (1) (если не ошибаюсь, с именем крейсера «Рюрик»). Но так как высокая гостья боялась простуды в нетопленном помещении с дырой в потолке, то голова ее и плечи были предусмотрительно укутаны белым пуховым платком. Черная ленточка с золотыми литерами, перекрывавшая лоб поверх платка, обрамлявшего бледное старческое лицо, выглядела не только нелепо – она очень напоминала «венчик» из похоронного обрядового убранства, придавая гостье вид покойницы. Неподвижность «бабушки» только подчеркивала это впечатление.
Но бестолково суетившиеся организаторы митинга, очевидно, были очень довольны всем происходящим и особенно собой. Они, как заправские клакёры, аплодировали после каждой фразы, удачно или неудачно изреченной «бабушкой» или ораторами, и демонстрировали неподдельный и стихийный энтузиазм масс.
Верстак имел изрядную высоту – возможно, он был специально поставлен на колодки,- во всяком случае ботинки выступавших приходились на уровне голов слушателей. Весь ковчег с «бабушкой» и декоративными моряками как бы плавал над собравшимися.
В простенке за возвышением и по бокам его – вокруг Брешковской – плотно грудились фигуры в котелках с «гаврилками» (2). Все как будто на одно лицо. Это администрация завода, начиная от директоров и инженеров, вплоть до младших делопроизводителей. А одесную почетной гостьи расположились офицеры со строящихся кораблей.
Для полного ансамбля не хватало только Александра Федоровича Керенского, но тот, как оказалось, еще накануне вечером умчался экстренным поездом в Петроград, сославшись на неотложные дела. Поэтому в Ревеле Керенский промелькнул, как комета (хотя успел произнести около семи речей). Может статься, сквозь медь духовых оркестров и витиеватые дифирамбы сочувствующих ему ораторов он почувствовал некоторые симптомы настроений кронштадтских и гельсингфорских моряков Балтийского флота, которых министр-социалист очень недолюбливал.
Такое предположение вполне допустимо, несмотря на то, что первое время в местном Совете преобладало влияние эсеров и меньшевиков, все же с каждым днем все большее число сознательных рабочих, матросов и солдат гарнизона переходило на платформу большевистской партии.
Однако есть еще более веский довод, вскрывающий причину ретирады Керенского в Петроград. Дело в том , что 4 апреля В. И. Ленин выступил со своими «Апрельскими тезисами», послужившими исторической вехой для нового направления всего революционного движения.
Где уж тут было до агитации за продолжение войны, когда вождь пролетариата дал установку: «Никакой поддержки В ременному правительству» – и ее с энтузиазмом подхватили широкие массы.
Впрочем, несмотря на отсутствие светила, которое должно было озарять все вокруг и воодушевлять каждого на продолжение войны, тень Керенского все-таки незримо присутствовала в цехе, потому что все делалось на редкость бестолково. А выступавшие ораторы пустой и громкой фразой старались подменить обсуждение и разъяснение самых насущных проблем.
– – – –
1 Накануне «бабушка» была избрана почетным председателем матросского клуба в Ревеле. Очевидно, эта ленточка должна была символизировать причастность rостьи к Балтийскому флоту.
2 Так матросы называли накрахмаленный воротник с галстуком на белоснежном пластроне.
Никакого подъема, а тем более энтузиазма среди присутствующих не чувствовалось. Почти два месяца туманных разговоров и многообещающих речей о завоеваниях революции без каких-либо практических шагов со стороны Временного правительства начали не только надоедать, но и раздражать рабочих и крестьян, в шинелях и бушлатах бесцельно гибнувших на фронтах и флотах или впроголодь и непроизводительно проводивших время в оскудевших деревнях и на полуразрушенных заводах.
Путаные, а то и злонамеренные, провокационные выступления меньшевиков и эсеров, борьба этих лжесоциалистов не столько за принципы, сколько за власть, создавали хаос не только в мыслях людей, но и в экономике государства, и без того обессиленного почти трехлетней войной, безответственной администрацией и бездарными правителями. В этих условиях, выгодных отечественной реакции и врага русского народа за рубежом (считая и тех, кто числился в рядах правящих партий так называемых «союзников»), все свелось для широких масс к двум политическим платформам. Одна: «Да здравствует Временное правительство и война до победного конца!» – и другая, противопоставленная eй большевиками: «Вся власть Советам и долой империалистическую войну!», что последовательно приводило к передаче земли хлеборобам и к экспроприации частной собственности на средства производства.
И в этот день, в общем, выступления велись вокруг двух основных позиций, однако с решительным перевесом защитников эсеровских и меньшевистских посулов.
Очередной оратор оказался тертым калачом. Не замечая скептических реплик или делая вид, что не слышит их, он продолжал свою гладкую речь так, будто перед ним были только единомышленники. Аплодисменты кучки служащих он принимал признательным наклонением головы как от представителей всех присутствующих.
Из расспросов соседей выяснилось, что мы пропустили первых ораторов – «братишку» и «окопного солдатика», явно состоявших на содержании партии эсеров. По словам соседа, оба выступления: «Сплошная липа, хорошо еще, что целы остались…»
Очевидно, после эмоционального воздействия матросика и солдатика кто-то должен был разбить в пух и прах лозунги большевиков. Но поскольку спектакль не удавался, в качестве тяжелой артиллерии предстояло выступить самой Брешко-Брешковской.
«Бабушка» оказалась перед необходимостью подменить министра-социалиста в части дирижирования хором, поющим гимны в честь продолжения войны.
После длительных стараний доброхотов, силившихся навести порядок и добиться тишины, но своим шипением еще больше мешавших слушать, стало возможно в ближайшем расстоянии от верстака разобрать прерывистый, но еще довольно твердый старческий голос:
– … Если бы мы перестали воевать – прощай наша свобода. Прощай наша земля. Прощай наше будущее. Разве для того вы страдали и делали великую всероссийскую революцию?.. Мы не одни страдаем, граждане. Демократии всех стран страдают. Страдают французы, страдают англичане и итальянцы…
… В Петроград приехали три англичанина и три француза, депутаты от рабочих. Они пришли к нам и говорят: «Русские люди, помогите. Что же вы нас оставили…» (1).
– – – –
1 Здесь и ниже приведены выдержки из речи Брешковской, опубликованной 9 апреля 1917 года в «Известиях Ревельского Совета рабочих и воинских депутатов» и в «Военной газете».
Несмотря на весьма почтенный возраст (ей исполнилось семьдесят три года), перенесенные в прошлом лишения и утомление от обилия митингов, «бабушка» все же была в весьма боевом настроении. Она воинственно призывала:
– Удвойте вашу энергию, готовьте больше снарядов!..
На вопросительный выкрик одного из слушателей: «А как же насчет социализма?» – она, не задумываясь, ответила:
– Социализм – это улита, которая едет, когда-то будет… а пока что надо воевать за свободу”.
Это был вызов, так как сама Брешковская ни словом не обмолвилась о социализме, о будущем революции, упорно твердя только о необходимости продолжать войну и поддерживать Антанту. В то же время она отлично понимала, что заданный вопрос не являлся частным, а выражал обостренный интерес к проблеме, особенно насущной для стоящих перед ней рабочих и матросов.
Характерной для выступления «бабушки» была спекуляция на патриотизме и на извращенном толковании революционных определений и понятий:
– Граждане, мы, как народ великий, как народ могущественный, как народ смелый и как народ честный, мы от общего дела демократии отказаться не можем. И раз мы стоим за Интернационал, за то, чтобы рабочие друг другу руки протягивали, так как же мы бросим их одних (то есть союзников) там расправляться с немцами?
Закончила Брешковская эту расчетливую ложь выкриком: «За землю и за волю! Ура!» – так и не разъяснив, почему мировая демократия и Интернационал вовсе не включают в свой состав немецкий, австрийский, турецкий и другие народы, втянутые в империалистическую бойню против Антанты.
Последний ее лозунг был рассчитан на аплодисменты, и она их дождалась, но никакой связи этот старческий выкрик с ее выступлением не имел, так как она ни слова не упомянула о земле.
«Бабушка» говорила, не вставая, в меру своих сил, а для такого огромного помещения этих сил явно не хватало. Вероятно, более половины присутствующих ее не слышало. Однако и «ура» и аплодисменты были дружными. Это аплодировали ее революционному прошлому и той ее популярности, которую в те дни с особой силой всеми правдами и неправдами подогревали эсеры.
Последующие ораторы дули в ту же дуду, не получая организованного отпора, кроме критических замечаний в виде отдельных выкриков.
А между тем народу все прибывало и собралось довольно много не только с верфи Беккера, но и явившихся вместе с семьями с Русско-Балтийского, Ноблесснера и других ближайших заводов. Однако из-за обширной площади цеха особой тесноты не чувствовалось и при желании на ней можно было бы разместить вдвое большее число людей.
Ясно было, что ездившие в город вчера не захотели вторично слушать столичных гостей.
Хотя «бабушка» служила как бы фокусом общего любопытства, все же по отдельным репликам и замечаниям становилось ясно, что наибольший интерес возбуждал приезд иностранных делегатов, выступление которых ожидалось с нетерпением. В Ревель, официально именуемый «Крепостью Петра Великого», зарубежные гости заглядывали очень редко, если не считать английских моряков с подводных лодок или почтенных адмиралов, приезжавших подбадривать своих союзников, пытавшихся после революции выйти из-под контроля. Теперь, когда «бабушка» объявила о приезде представителей от рабочих из-за границы, интерес к ним поднялся до самого высокого градуса. Между тем на импровизированную эстраду был выпущен своеобразный гибрид: лейтенант во французской форме, отрекомендованный как временно исполняющий обязанности главы военно-морского ведомства, – В. И. Лебедев.
Пожалуй, выступление этого временного министра Временного правительства было самым неудачным и даже карикатурным. И не столько потому, что он не сказал ничего нового, сколько потому, что появился на трибуну в форме лейтенанта французской службы, которой явно гордился.
Этот невзрачный, но выутюженный франко-росс, сверкающий до блеска начищенными желтыми крагами, скорее всего напоминал манекен из витрины парижского магазина военного обмундирования.
Такими же прилизанными и приглаженными оказались его мысли.
Ни одной из числа волновавших народ. Набор стандартных цитат из эсеровского арсенала, густо пересыпанных местоимениями «Я» и «МЫ».
Немногие из присутствующих знали, что этот ярый социал-оборонец, будучи в эмиграции, в 1914 году вступил добровольцем во французскую армию. Однако трудно было понять, почему он, возвратившись на родину, временно вынесенный событиями на высокий пост управляющего морским ведомством, продолжал красоваться в защитном костюме хаки и в пилотке лейтенанта французской армии. Возможно, это являлось демонстрацией верности Антанте, но вероятнее всего выражало желание хоть чем-либо выделяться из окружающей среды, так как ничем другим похвастаться он не мог.
Лебедев настолько явно рисовался и любовался самим собой, что не замечал общего недоумения, которое вызывал у слушателей. В цехе усилились бесцеремонные разговоры и ехидные выкрики. Впрочем, у оратора явно проскальзывала дополнительная забота. Стараясь подражать Керенскому и жестикулируя одной рукой с зажатой в ней кожаной перчаткой, Лебедев все время балансировал, судорожно цепляясь другой рукой за угол стола, чтобы не сорваться с узкого карниза верстака.
Спасибо на том, что он еще не забыл свой родной язык…
С того дня прошло много времени, и сейчас трудно воспроизвести все, что говорил русский министр во французском обличии. Но помню хорошо, что его выступление сводилось к штампованным фразам относительно обязательств перед союзниками; о том, что молодой республике угрожает анархия, якобы провоцируемая большевиками; что только безоговорочная верность Временному правительству спасет страну и что ее будущее определит всенародное вече, то есть Учредительное собрание. То же самое мы ежедневно читали на первых страницах ревельских или приходящих из Питера эсеровских и меньшевистских газет, все это давно навязло в зубах и категорически отвергалось сознательными судостроителями и матросами, как только разговор заходил «о политике».
Не совсем удобно признаваться в этом спустя столько лет, но мне лично оратор был противен не только из-за высказываемых им идей и подчеркнутой манеры отмежевываться от родины («Я из Парижа, где приходилось краснеть за братание русских солдат с немцами» или «Мы в неоплатном долгу перед доблестными союзниками» и т. д.), но и по чисто профессиональному мотиву: совершенно не укладывался в голове тот факт, что нашим флотом управляет армейский лейтенант, да еще французской службы.
Однако аудиторию, почти наполовину состоявшую из моряков, причем со стажем побольше моего, и из старых рабочих, эта сторона дела абсолютно не волновала.
Для них вопрос о войне и мире был главным. Точнее, они ждали прекращения войны и заключения мира.
«Котелки» аплодировали Лебедеву, следуя движению главного директора завода. Но в громадном помещении цеха эти полсотни хлопков звучали как-то бледно или, пожалуй, даже иронически, так как подчеркивали мрачное безмолвие тысячи остальных присутствующих.
Последние не устраивали обструкций, но и не оставались инертными. Русско-французскому лейтенанту приходилось периодически глотать саркастические реплики или ехидные вопросы:
– Если воевать охота, сам и воюй!
– Мы союзникам ничего не должны, а если ты должен, ты и отдавай!
– Сам-то сколько времени в окопах вшей кормил?
И уже совсем некорректно прозвучало громкое предложение одного из морячков: «Катись колбаской по Малой Спасской!» – тем более что, несмотря на возмущение «бабушки» и ее свиты, оно сопровождалось одобрительным гулом и смехом значительной части присутствующих.
Так достаточно выразительно определилось настроение большинства.
Заправилы митинга оказались перед необходимостью спасать положение, в результате чего, пошептавшись с Брешковской, один из них объявил, что следующим оратором будет делегат от французской социал-демократической партии.
Наконец наступила долгожданная очередь подлинного француза.
Затихли говоруны, непочтительно болтавшие во время выступления временного министра, и установилась выжидательная тишина, однако очень скоро выяснилось, что те самые распорядители, которые догадались соорудить подобие трона для «бабушки», не сообразили организовать перевод выступлений иностранных гостей.
Небольшого роста, в скромном пиджаке, открыто смотрящий прямо в лица своих слушателей, француз положил свою кепку на стол и начал очень эффектно – ведь иначе он не был бы подлинным представителем своей нации. Он громким, митинговым голосом бросил русским товарищам приветствия, донесенные с далеких берегов Сены:
– Vive !а Revolution russe! – И затем: – А bas le monarchisme et le tsarisme!
Перевода этих фраз не потребовалось, их смысл сразу дошел до сознания всех присутствующих. Этим началом оратор в один миг завоевал симпатии слушателей и был вознагражден бурными аплодисментами и приветственными возгласами.
Однако в последующем, несмотря на то, что оратор говорил четко и относительно медленно, аудитория безмолвствовала. Дело было не только в отсутствии перевода. Чувствовалось, что сам выступавший говорил без видимого подъема или энтузиазма. Красивые и закругленные фразы на красивом языке воспринимались в недостроенном цехе бесстрастно, не производя впечатления на присутствующих.
(Забегая вперед, скажу о том, чего я тогда, конечно, не мог знать: содержание речи, навязанной партийным руководством, внушало самому оратору серьезные сомнения. Еще до митинга в Копли-лахт француз неоднократно замечал, что призывы к продолжению войны здесь, в обновляющейся России, не встречали сочувствия. А текст речи, изготовленный еще в Париже, заученный на память к моменту высадки в Архангельске и сейчас лежавший в кармане пиджака, прошел не только цензуру, но и соответствующие департаменты военно-пропагандистской машины союзников.)
Итак, девяносто процентов слушателей не понимало французского языка и только догадывалось, что он не случайно оказался в свите «бабушки». Директора не в счет. Не на них был рассчитан монолог гостя, потому что кто-кто, а они не нуждались в призывах за продолжение войны.
– Подскажи, мил человек, чего это он лопочет? – обратился довольно громко к аккуратному лейтенанту российского флота с красным бантом в петлице шинели оказавшийся рядом усатый, почтенного вида рабочий, строго глядевший сквозь стекла стальных очков. Складной метр в нагрудном кармане и вся солидная повадка выдавали в нем мастера.
Как вам сказать? – вполголоса, чтобы не мешать другим, отозвался моряк. – Вроде как бы упрекает, что русские после революции не так охотно воюют … Что боши – это, значит, немцы – отнимут все завоевания революции …
– Ну, такие песни мы слышали уже не впервой. Значит, война до последней капли крови русского солдата, так получается? – не то презрительно, не то иронически сказал мастер и сплюнул.
Флотского лейтенанта вдруг охватило беспокойство. Он судорожно сжал руку своей нарядной жены, прислонившейся к его плечу, и, видимо, решил, что лучше не ввязываться в роль переводчика. Ведь большинству матросов и рабочих вряд ли понравятся речи гостей…
Но благие намерения приходят слишком поздно. Близко стоявшие слушатели, явно беспомощные в попытке понять француза и наблюдавшие любезную подмогу офицера, потянулись к нему и кто шепотом, кто громко стали уговаривать продолжать перевод. Кольцо упрашивающих уплотнялось. И конечно, среди них не было ни котелков, ни офицерских фуражек.
Именно знание иностранных языков во все прошлые времена неизменно подчеркивало одно из преимуществ кадрового офицера, дворян и других представителей привилегированных классов. Больше того, подобная привилегия являлась как бы неотъемлемой, монопольной и пожизненной.
Можно снять погоны и вынудить сменить котелок или цилиндр на кепку; можно конфисковать и поделить имущество, движимое и недвижимое, а знание иноземного языка все равно останется при его владельце, пока у него голова на плечах.
Кто мог знать тогда, что наступит время, причем довольно скоро, и сыновья кепок и бескозырок, столпившихся вокруг лейтенанта, уже с юных лет будут довольно бегло лопотать по-английски, обучаясь ему в нахимовских, суворовских и других советских школах?!
А пока не владеющему языками приходилось идти на поклон к владеющему. Послышались реплики:
– Уважь народ, господин хороший, будь ласков… Перескажи, чего это он бухтит. Вроде как сочувствующий? А то своих говорунов мы уже наслушались – дальше некуда!
Порозовевший и немного смущенный флотский лейтенант замялся, подыскивая уважительный предлог, чтобы уклониться от высокой чести, но неожиданно, вроде как ножом в спину, нанесла предательский удар его собственная жена.
– Ну, конечно! .. Ведь ты, Анатоль, отлично знаешь французский и свободно мог бы помочь … товарищам. – (Чуть было не оступилась, так как это был первый случай в ее жизни, когда «Людей из толпы», «ИЗ мастеровых» или «ИЗ матросни» пришлось назвать товарищами.)
Лейтенантша явно заранее упивалась успехом мужа перед «товарищами», которые оказались совершенно беспомощными и просят – да, да, сами просят! – им помочь.
Откуда ни возьмись появились доброхоты. Кто-то даже подхватил лейтенанта под локотки.
– Пожалуйте сюда, ваше благородие… Становись на эту поковку, не беда, что с брачком… Можно сказать, для пьедестала годится! И тебе виднее, и нам слышнее. Шпарь!
Поднятый волей судеб над толпой почти на полметра, глотая слюну, вначале волнуясь, а затем все увереннее лейтенант стал переводить вполголоса слова французского социалиста. Прислонившись к мужу, чтобы придать ему устойчивость, и незаметно пожимая руку для морального поощрения, жена офицера с гордостью оглядывала окружающих.
Забавная деталь: у лейтенантши на высокой шелковой шляпке, отороченной по нижнему краю мехом, кокетливо торчало фиолетовое перо, искусно изогнутое вверх наподобие вопросительного знака. Колыхаясь при каждом движении модницы, этот вопросительный символ двусмысленно красовался в вышине и как бы ставил под сомнение все относящееся к владелице шляпки и к ее супругу.
Если верить словам переводчика, француз пока не столько говорил о будущем, сколько осуждал проклятое прошлое и его главного виновника – афериста-царя.
– L’affaire du Tsar est faiteP
Буквального перевода и в данном случае не требовалось, тем более что слушатели давно знали о провале политики проклятого царизма, – они сами приложили к этому руку всеобщей забастовкой и ликвидацией сопротивлявшихся жандармов и юнкеров. В этом месте добровольный толмач запнулся, словно раздумывая, как перевести высказанную оратором мысль.
А между тем не надо было знать французский язык, чтобы почувствовать, что делегат от союзников жует надоевшую ему самому жвачку, как это было, по всей вероятности, вчера в Ревеле или позавчера в Петрограде. По поведению и взглядам пытливо следящих за ним слушателей француз все больше убеждался, что от него ждут другого. И постепенно это другое – то есть скорейшее окончание мировой войны – становилось ему понятнее и ближе, нежели то, о чем твердили его компаньоны во главе со зловещей старухой.
Эта метаморфоза происходила пока что только внутри – под влиянием всего увиденного в России и под влиянием реакции каждой новой аудитории. Однако связанный партийным поручением и все еще находясь в плену полученных наказов и официальной пропаганды, француз еще не созрел для полной ревизии тех идей и лозунгов, с которыми выехал из Парижа. Конечно, подобное внутреннее состояние не могло не сказываться на характере и интонациях выступления, лишенного всякой убежденности.
И, конечно, это не могло остаться незамеченным со стороны жадно старавшихся понять его русских товарищей.
А лейтенант тем временем все продолжал усугублять свою ошибку.
Он с чрезмерной добросовестностью старался поточнее подбирать слова и обороты, чтобы как можно меньше уклоняться от оригинала. Следствием его стараний было множество запинок, всяких «Э-э», «так сказать» и прочих мусорных слов, которые вынуждали переводчика отставать от оратора.
Неожиданно после очередного «Э-Э», выдавленного из себя лейтенантом, стоявший поодаль матрос с «Гавриила» бесцеремонно изрек: «Муть!» – и вроде как бы плюнул с досады.
– – – –
1 С царем покончено!
– Где тут Цыганков?.. Он же на «Учебном» (1) во Францию ходил, должон разбираться.
Через минуту на другой валявшейся в песке бракованной отливке вырос унтер-офицер Цыганков и без задержки включился в параллельный перевод. Однако метод гавриильца оказался совершенно иным.
Бойкий морячок предельно упрощал и укорачивал выступление гостя и, несмотря на то, что сам понимал не так уж много, ухитрялся не отставать от француза, а иногда даже опережал и дополнял его.
Уязвленный такой примитивной конкуренцией, офицер стал еще больше запинаться. А перевод французской речи матросом продолжался без задержек и выглядел приблизительно так:
– Говорит, значит, что пролетариат теперь может издавать свои манифесты! – (На самом деле француз сказал: «La mission du pr0rletariat es•t manifeste» (2).
В таком же духе шло продолжение:
– Амба всем фабрикантам и буржуазии!.. Факт!.. Обратно, агитирует за коммуну… потому как империализму хода нет!.. Значит, теперь Интернационал на мази, потому как все стали камрады и демократия сейчас – будь здоров!.. Опять же, говорит против милитаризма!.. Одним словом, эксплуатации тоже амба, потому буржуазии сейчас стоп, а скоро будет полный назад!..
Цыганков вдохновенно подправлял и редактировал оратора так, как подсказывало ему страстное желание обрести подлинного союзника не в войне с немцами, а в революционной борьбе с реакцией и особенно с заправилами сегодняшнего митинга.
И именно благодаря этому вольному пересказу переводчик получал некоторые знаки поощрения от своих слушателей (вроде «шуруй на полный!») и число их все росло и росло за счет перебежчиков из сферы влияния педантичного офицера. А Цыганков, увлеченный успехом, импровизировал вдохновенно и довольно часто искажал смысл доносящегося с трибуны на сто восемьдесят градусов. Не улавливающая своеобразия перевода аудитория была довольна.
В конце концов смущенный лейтенант, потеряв весь свой апломб, остался почти один возле своей разъяренной супруги. Продолжать в этих условиях перевод было явно нелепо.
– Пойдем, Анатоль, здесь нас не понимают, – прошипела жена, стаскивая мужа с импровизированной трибуны, и, гордо подняв голову, стала энергично проталкиваться к выходу, оставляя поле боя.
Почти никто, однако, не обратил внимания на уходящую пару. Все целиком были поглощены выступлением француза и его бойкого толмача.
И только изогнутое вопросительным знаком перо на шляпке лейтенантши, кивая то направо, то налево и как бы плывя над головами собравшихся, показывало движение к выходу незадачливой четы.
Теперь, когда остался только один, но «свой в доску» переводчик, француза слушали еще более благожелательно и почти каждый период его речи, разъясняемый лаконичным примечанием Цыганкова, награждали аплодисментами.
Наконец представитель союзной Франции с явным облегчением добрался до благополучного конца заданного ему текста. Он замолчал как-то вдруг, будто из него вышел весь воздух. Однако истинный француз, эффектно начав речь, должен был эффектно ее и закончить.
– – – –
1 Так сокращенно называли «Учебный отряд Балтийского флота», до войны ежегодно ходивший в практическое плавание в Средиземном море с юнгами и гардемаринами.
2 Миссия пролетариата ясна.
Крепко вцепившись в угол стола, оратор приподнялся на цыпочки и, выкинув другую руку вперед, выкрикнул:
– Vive !а RepuЬ!ique! – А затем, впервые использовав русские слова, закончил возгласом: – Война до побэдний конца!
Наступила томительная и недоуменная тишина.
Опустились тысячи рук, готовых к овациям.
Не помогли ни запоздавшие и жидкие хлопки «бабушкиной» свиты, ни солидное похлопывание директоров и офицеров. Эта зловещая тишина лучше всего продемонстрировала истинное настроение митинга. Безмолвное непринятие призыва к продолжению войны было хотя и стихийным, но абсолютно единодушным.
Смущенный француз, ожидавший общего одобрения, только в этот момент окончательно понял, что оказался на границе между двумя враждебными классами и невольно сделался рупором буржуазного меньшинства, в то время как вот эти его русские товарищи ждали от него, помимо слов, еще больших усилий, направленных для достижения всеобщего мира.
Переводить концовку оратора, конечно, не потребовалось. В наступившей тишине раздался громкий и недоуменный голос обескураженного Цыганкова:
– Скажи пожалуйста! Пока говорил по-французски, получалось вроде правильно. А как перешел на русский, обратно все напутал.
Старый мастер медленно изрек:
– Начал за здравие, а кончил за упокой! – И стал пробираться к выходу.
За ним потянулись остальные, не обращая внимания на протесты «бабушкиных» зазывал.
Несмотря на срыв митинга, на следующий день в ревельских газетах появились победные реляции и отчеты.
Так было в десятых числах апреля 1917 года, когда на митинге в пригороде Ревеля Копли-лахт большевики еще не могли противопоставить главным силам реакции своих подготовленных агитаторов. Однако все расширяющееся революционное движение рабочих и крестьян, руководимое великим Лениным, последовательно привело к тому, что после полугода огромных усилий и немалых жертв в октябре того же года большевики завоевали власть не только в Ревеле, но и во всех опорных пунктах страны.
Цыганков и его единомышленники, участвуя в борьбе на два фронта – против немецкого империализма в боях за Рижский залив и против обманутых отдельных армейских частей, еще поддерживавших Временное правительство, – стали членами партии, шедшей в авангарде масс, борющихся за социализм.
Прошло еще немного времени, и мы узнали, что французский делегат не без пользы для себя выступал на митинге в Копли-лахт, так как оказался в рядах Коммунистической партии Франции, в то время как Лебедев, Брешковская и Керенский вместе со своими почитателями были выброшены на мусорную свалку истории.