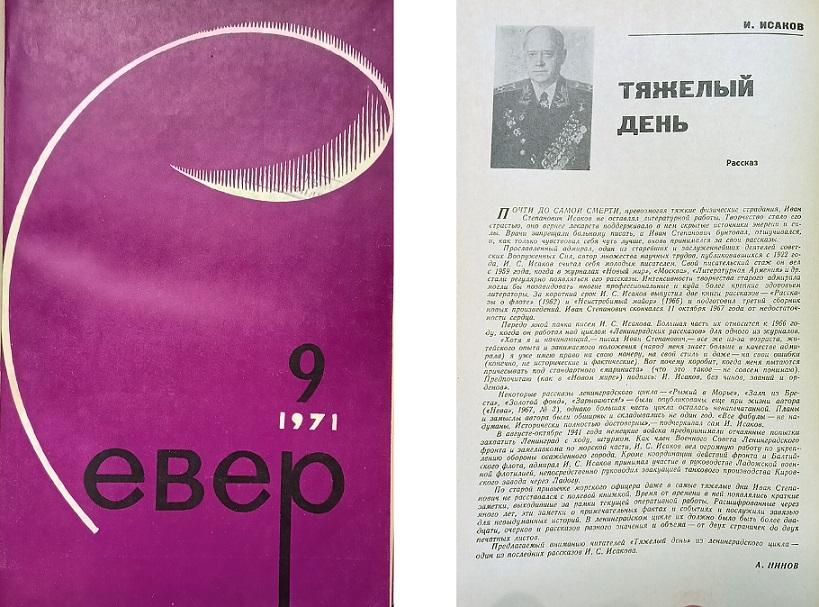И.С. Исаков сыграл важную роль в становлении “Дороги жизни” http://crossroadorg.info/isakov-leningrad-1/ Один из его рассказов – об одном дне начального периода.
Справка
Начальный период Дороги жизни характеризовался такими фразами в одной из Докладных: “Отсутствие порядка в речном пароходстве и беззаботность…”, “Проявлена была халатность в организации охранения…”, “Командир… капитан… до преступности оказался осторожен…” и т.д. В результате такого положения дел спустя всего 9 дней после начала блокады, в ночь на 17 сентября 1941 г. на Ладожском озере при эвакуации случилась трагедия с потерей более 1200 жизней, в основном, молодых военных – трагедия с Баржей № 752. https://armenians-spb.ru/ladozhsky-kurgan/ Об этой трагедии замалчивалось десятилетиями, потому неудивительно, что Исаков не упоминает её в своём рассказе, как не упоминает и имя командующего Ладожской военной флотилией капитана 1-го ранга Б. В. Хорошхина, который после допущенной трагедии был переведён на Волжскую флотилию (вместо него был назначен В.С. Чероков).
Решением Военного совета 19 сентября именно Исакову поручили руководить перевозками по Ладожскому озеру. И именно благодаря ему на месте, а не только Жданову (как указано в фильме 1942 г. “Ладога”, в котором имя Исакова не упомянуто вовсе), произошёл перелом в порядке дел и была заложена дисциплина. Именно по рекомендации Исакова 9 октября 1941 года капитан 1-го ранга Виктор Сергеевич Чероков (родился в Ордубаде) был назначен командующим Ладожской военной флотилией. Назначение Черокова было верным – он остался на этом посту до ноября 1944 г, когда Ладожскую флотилию расформировали, а ещё ранее в январе ему присвоили звание контр-адмирала. Чероков об Исакове – http://crossroadorg.info/cherokov-1/
25 сентября 1941 г. Исаков был контужен под Шлиссельбургом с потерей слуха на левое ухо.
В рассказе упоминается только одно имя – Н.Ю. Авраамова. Причём – 11 раз. Исаков с уважением пишет об Авраамове и в трёх других рассказах, ссылки на которые даны ниже в предисловии. В начальный период становления Дороги жизни Исаков был назначен помочь Авраамову. Д.В. Павлов в своей книге (1958 г.) писал: “Со стороны Невы Осиновец защищала Невская укрепленная позиция, которая в это время еще создавалась. Размах работ по строительству порта с одновременной эксплуатацией судов оказался не по плечу суетливому и нерешительному Авраамову…” https://crossroadorg.info/pavlov-1/
Николай Юрьевич Авраамов (1892—1949) — морской офицер, участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, член Центробалта, командующий Чудской военной флотилией, командир Осиновецкой военно-морской базы, заместитель командующего Ладожской военной флотилией, военный педагог, начальник школы юнг Северного флота, начальник Ленинградского военно-морского подготовительного училища, капитан 1 ранга. Николай Юрьевич – основатель морской династии. Сын Георгий пошёл по стопам отца, окончил в 1944 году Нахимовское училище, Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе, стал моряком, начальником Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова, вице-адмиралом. Морскую династию Авраамовых продолжил внук Николая Юрьевича, его тёзка Николай — окончил ЛНВМУ, ВВМУ имени М. В. Фрунзе, стал командиром корабля, капитаном 2 ранга. Правнуки Антон и Павел также окончили Санкт-Петербургский военно-морской институт (бывшее Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе) и стали морскими офицерами…
Авраамов за свою короткую (57 лет) жизнь имел 4 боевых ордена во время царской России и 6 боевых орденов в советское время. Отдавая дань памяти Николаю Юрьевичу, приводим его фотографии до 1917 года и после войны.
Фрагмент одного из сотен стендов музея “Дорога жизни” (филиала Центрального Военно-морского музея) в соседнем с Осиновцом посёлке Ладожское озеро на берегу Ладоги. На стенде портреты Исакова и Авраамова рядом. Подробнее о презентации И.С. Исакова в этом музее – https://armenians-spb.ru/isakov-museum-doroga/
Рассказ И.С. Исакова об одном дне у Осиновца, у Дороги жизни напечатан только на пятый год после его кончины, осенью 1971 года в журнале “Север”. С этого года “Новый мир” после безвременного ухода его главного редактора А.Т. Твардовского прекратил публиковать рассказы Исакова, хотя до того почти каждый год делал это. С тех пор в течение полувека ни при одном из пяти следующих главредах читатели “Нового мира” уже так и не увидели работ Исакова. https://crossroadorg.info/isakov-noviy/
Спасибо литературоведу, доктору филологических наук А.А. Нинову (1931-1998), который не только напечатал в “Севере” рассказ Исакова и не только предпослал предисловие, которое также приведено ниже. Александр Алексеевич подробно написал о новом литературном стиле Исакова в отдельной статье “Искусство невыдуманного рассказа” в “Новом мире” (№3, 1964 г.).
Предисловие А.А. Нинова
Журнал «Север», 1971, № 9, с. 53.
Почти до самой смерти, превозмогая тяжкие физические страдания, Иван Степанович Исаков не оставлял литературной работы. Творчество стало его страстью, оно вернее лекарств поддерживало в нем скрытые источники энергии и силы. Врачи запрещали больному писать, а Иван Степанович бунтовал, отшучивался, и, как только чувствовал себя чуть лучше, вновь принимался за свои рассказы.
Прославленный адмирал, один из старейших и заслуженнейших деятелей советских Вооруженных Сил, автор множества научных трудов, публиковавшихся с 1922 года, И. С. Исаков считал себя молодым писателем. Свой писательский стаж он вёл с 1959 года, когда в журналах «Новый мир», «Москва», «Литературная Армения» и др. стали регулярно появляться его рассказы. Интенсивности творчества старого адмирала могли бы позавидовать многие профессиональные и куда более крепкие здоровьем литераторы. За короткий срок И. С. Исаков выпустил две книги рассказов — «Рассказы о флоте» (1962) и «Неистребимый майор» (1966) и подготовил третий сборник новых произведений. Иван Степанович скончался 11 октября 1967 года от недостаточности сердца.
Передо мной пачка писем И. С. Исакова. Большая часть их относится к 1966 году, когда он работал над циклом «Ленинградских рассказов» для одного из журналов.
«Хотя я и начинающий — писал Иван Степанович — всё же из-за возраста, житейского опыта и занимаемого положения (народ меня знает больше в качестве адмирала) я уже имею право на свою манеру, на свой стиль и даже — на свои ошибки (конечно, не исторические и фактические). Вот почему коробит, когда меня пытаются причесывать под стандартного «мариниста» (что это такое — не совсем понимаю). Предпочитаю (как в «Новом мире») подпись: И. Исаков, без чинов, званий и орденов».
Некоторые рассказы ленинградского цикла — «Рыжий в Морье», «Залп из Бреста», «Золотой фонд», «Зарываются!» —были опубликованы ещё при жизни автора («Нева», 1967, № 8), однако большая часть цикла осталась ненапечатанной. Планы и замыслы автора были обширны и складывались не один год. «Все фабулы — не надуманы. Исторически полностью достоверны», — подчеркивал сам И. Исаков.
В августе-октябре 1941 года немецкие войска предпринимали отчаянные попытки захватить Ленинград с ходу, штурмом. Как член Военного Совета Ленинградского фронта и замглавкома по морской части, И. С. Исаков вел огромную работу по укреплению обороны осажденного города. Кроме координации действий фронта и Балтийского флота, адмирал И. С. Исаков принимал участие в руководстве Ладожской военной флотилией, и руководил эвакуацией танкового производства Кировского завода через Ладогу.
По старой привычке морского офицера даже в самые тяжелые дни Иван Степанович не расставался с полевой книжкой. Время от времени в ней появлялись краткие заметки, выходившие за рамки текущей оперативной работы. Расшифрованные через много лет, эти заметки о примечательных фактах и событиях и послужили завязью для невыдуманных историй. В ленинградском цикле их должно было быть более двадцати, очерков и рассказов разного значения и о от двух страничек до двух печатных листов.
Предлагаемый вниманию читателей «Тяжелый день» из ленинградского цикла — один из последних рассказов И. С. Исакова.
А. Нинов
Тяжёлый день
И.С. Исаков
Журнал «Север», 1971, № 9, с. 54—61.
У каждого человека, прошедшего «огонь, воду и медные трубы», даже если он не боится своего прошлого, всегда найдется в памяти такой случай, о котором не хочется вспоминать.
Есть, конечно, люди, которые хорохорятся, делая вид, что они всегда и из всех затруднений выходили легко и свободно. Без сучка и задоринки. Чаще всего это встречается в мемуарах. Особенно, если автор надеется, что пережил свидетелей.
Что касается меня, то при живых очевидцах могу сознаться: был один случай, когда чувствовал я себя, к сожалению, далеко не блестяще. Делаю это сейчас не из потребности покаяния, а потому, что происшествие само по себе поучительно и характерно для обстановки на одном из участков обороны блокированного Ленинграда.
Эпиграфом к происшествию можно сделать детскую загадку, в которой предлагается решить, как последовательно перевезти через реку волка, овцу и сено, но с таким расчетом, чтобы волк не задрал овечку, пока лодочник будет переправлять сено. А если он начнет с волка — чтобы овца не съела сено.
Каждый раз, когда я вспоминаю переправу у Осиновца, на ум приходит эта детская сказочка-загадка, которую тогда пришлось решать мне.
Ранним утром мы подъезжали к Осиновецкому маяку, недалеко от которого сооружалась искусственная гавань. Для ускорения строительства использовали подобие бухточки. От северного её мыска начали наброс бутового камня и бетонных кубов. Одновременно железнодорожники вели узкоколейку от конечной станции Ириниевской дороги.
Дело шло туго. При большом количестве рабочих рук строительство велось медленно, кустарно. Сказывалось отсутствие необходимых изысканий для гидротехнических работ, огромная нехватка тяжелых кранов и других подъемных механизмов, а также отсутствие поблизости каменного карьера и бетонного завода.
Самой сложной представлялась проблема рабочей силы. Людей к строительству привлекли много, однако в подавляющем числе — неквалифицированных, начиная от добровольцев с ближайших торфоразработок до пестрых бригад, сформированных из уголовников, прибывших вместе со своими конвоирами. Психологическое воздействие слова «война», близость врага, уже захватившего Шлиссельбург, в сочетании со срочностью задания и хорошей погодой конца ленинградского лета привели к тому, что никто не позаботился об устройстве жилья и быта нескольких тысяч рабочих.
Люди расположились своеобразными таборами, или лагерями, которые без всякого плана выросли в лесу и на его опушке напротив маяка и будущей гавани.
Дымились костры, около которых хлопотали поварихи. Кое-где рылись землянки, а чуть поодаль от них стояли палатки — служебные или для начальства. Охраны или обороны — в том числе и противовоздушной — почти никакой. Плохая связь. Скверные дороги.
Но хуже всего дело обстояло с руководством этой массой людей. В спешном строительстве Осиновецкой гавани был заинтересован весь Ленинград, фронт и многие ведомства. Гавань была нужна как для ввоза боезапасов и продовольствия, так и для эвакуации людей и грузов и вывоза продукции, предназначенной для других фронтов и областей. Мало кто представлял, что осажденный Ленинград продолжал выпускать и отправлять в глубь страны некоторые виды продукции, особенно — научные и оборонные приборы. Людей и кое-какую технику выделяли армия, флот, Северо-Западное пароходство, промышленность и другие заинтересованные учреждения. По той же причине командовали здесь все, кому надо и даже кому не надо.
Еще большую дезорганизацию вносили потоки беженцев. Сперва — волна с Карельского перешейка, а затем — немного поменьше — с противоположного направления, из Шлиссельбурга.
Наконец, когда немцы поняли, что в этом месте открывается отдушина для блокированного города, расширяемая усилиями осажденных, они начали регулярно посылать самолеты с тем, чтобы бомбовыми ударами расстроить ход строительных, погрузочных и разгрузочных работ и одновременно терроризировать всех, кто пробивал будущую «дорогу жизни».
Формально, пока действовало сообщение по Неве, Ладожское озеро было под эгидой командования Ладожской военной флотилии, входившей в состав Краснознаменного Балтийского флота. Оно же и назначило командиром шлиссельбургской базы капитана I ранга Н. Ю. Авраамова, старого моряка и опытного организатора.
Его, что называется, разрывали на части. Приказания сыпались от самых неожиданных инстанций, причем все с пометкой «срочно» или «немедленно». Прибавьте к этому его подчиненность военной флотилии и нажим уполномоченных почти от всех ведомств!..
После захвата немцами Шлиссельбурга и левого берега Невы, вплоть до Ивановских порогов, часть «клиентов» отпала, однако база и флотилия лишились возможности пополняться кораблями, буксирами и баржами из Ленинграда и Кронштадта, а прерванный железнодорожный поток, свернув на Ладогу, еще больше загрузил водную трассу и тем самым усложнил всю работу флотилии.
Кировский завод начал передислокацию своего танкового производства на Восток, буквально с первых дней войны ежедневно отправляя железнодорожные составы, груженные прессами, станками и соответствующим оборудованием. Сопровождали их немногочисленные квалифицированные рабочие. Но, когда Ленинград оказался в блокаде, эту операцию пришлось продолжать по трассе на Осиновец, потом водой на Кабону или Новую Ладогу, на Тихвин или Волхов… и еще дальше — на Урал.
Проблема эвакуации «золотого фонда» стала во весь рост. Речь шла о нескольких тысячах рабочих, мастеров, инженеров и частично — об их семьях. Решить эту проблему удалось только тогда, когда привлекли транспортную авиацию.
Общее руководство организацией переброски кировцев с их грузом через Ладогу было возложено на меня. Автоматически (благо я был членом Военсовета и замом Главкома по морской части) к этому прибавилось руководство строительством всех пунктов базирования на берегу Шлиссельбургской губы, только теперь главное их назначение определялось перевалкой грузов.
На этот раз Авраамова совсем замучили кандидаты в пассажиры, и он с радостью спрятался буквально за мою спину.
На подходах к мосткам и причалам, прорвав символическое оцепление из небольшого числа пограничников и солдат, сгрудились сотни женщин, ожидавших отправки. Я себя чувствовал перед ними почти что комендантом железнодорожной станции периода гражданской войны, то есть фигурой одиозной и драматической, достаточно обстрелянной и в жизни, и в литературе.
Со стороны, наверное, казалось, что нас разорвут в клочья. Но нестерпимый шум и гам, сопровождаемый истерическими выкриками, пока разряжался только бранью, правда, иногда весьма соленой. Перебранка временами прерывалась вызовом в землянку, к проводу, соединявшему со Смольным. Иногда же подобный вызов к аппарату Бодо или на смежный строительный объект делался кем-либо из подчиненных в порядке дружеского одолжения с тем, чтобы выручить начальство.
Приходилось отругиваться и изворачиваться не только из-за острой нехватки тоннажа или буксиров. К местам посадки просачивались без всякого разрешения и помимо плановых расчетов жены и родня рабочих Кировского завода, преимущественно тех, что уже улетели на транспортных самолетах. С ними было особенно трудно. Когда были все документы на выезд, редкая хозяйка не нарушала лимита, установленного для багажа. Бросать швейную машину или детскую коляску — было, очевидно, свыше сил для домовитых ленинградок, тем более, что такие требования застигали их неожиданно.
Попадались изредка и хитрющие обманщицы, которые в детскую коляску или в футляр от швейной машины плотно набивали утюги, посуду и другой домашний скарб, скопленный чуть ли не с дореволюционных времен ценой жесткой экономии или унаследованный от родителей.
Прогибающиеся рессоры колясок, замаскированных кружевными пологами, выдавали наивные ухищрения. Но у кого бы хватило административной дубоватости отсылать обратно на Выборгскую сторону или на Нарвскую заставу молодуху, держащую в одной руке скатку с ребенком, в другой — горшок с геранью и толкающую животом настолько тяжелую коляску, что без автокрана ее не поднимешь на сходню?
Мы, моряки, никогда не управились бы с такого рода трудностями, если бы не уполномоченные от завода, присланные парткомом для наблюдения за порядком, очередностью и здравым смыслом тех домочадцев, главы семейств которых давно уже проскочили в вагоне на Волхов или подлетали на самолете к Челябинску.
Пожилые мастера, авторитетные в цеху и дома, члены завкома или цехкомов принимали на себя первые атаки женщин, прорывавших оцепление и штурмующих, мешая погрузочным работам, шаткие мостки, неустойчивые на волне баржи и буксиры.
Самыми нелепыми, но по-человечески понятными были попытки увезти с собой буханки с хлебом и мешочки с крупой или мукой, для накопления которых люди часто отказывали себе и в без того скудном питании.
Получалась парадоксальная картина. Надо было добыть для осажденного Ленинграда возможно больше зерна или муки. Разгрузка в Осиновце исчислялась тоннами, но распределение производилось на килограммы, а иногда и на граммы. (Когда водный транспорт был парализован ледоставом, счет «прихода» также пришлось перевести на килограммы. – 3десь и далее примечания автора) И в то же время отъезжающие прилагали все усилия, чтобы скрытно или явно прихватить с собой за линию блокады как можно больше продовольствия.
Нелепо? Да, нелепо, тем более что в первые дни эвакуации такой «вывоз» достигал довольно больших размеров. Но, с другой стороны, кто из нас, организаторов эвакуации, мог гарантировать, что на всем пути до гипотетического «танкограда» и в первое время устройства на месте у людей не будет перебоев с питанием? Мы, отправители, даже не знали точно ни числа пассажиров, ни дальнейшей трассы, ни сроков, ничего, что дало бы нам право отбирать у матерей продовольствие, сбереженное на дорогу.
И в этом деле выручали уполномоченные — кировцы, действовавшие убеждением. С насмешками и прибаутками они уговаривали передать часть продуктов тем, кто остается в городе. Что касается необязательного в эвакуации «барахла», то на станции Ириниевской образовалась изрядная куча из сковород, чумичек и тарелок. За этим добром присматривал выборный «уполномоченный», которому оставляли адреса с наказами. Боюсь только, что в эту кучу попало не более пяти процентов скарба. Остальное нельзя было изъять, не переступив через труп собственницы.
Однако, повторяю, главную заботу нам доставляли люди, назначенные к выезду или проскочившие заградительные кордоны без разрешения. И большинство отъезжающих женщин стремилось быть вместе с мужьями, чтобы помогать им работать и жить. Они привыкли к этому в родном Питере.
Комфорта для пассажиров не было никакого.
В первые дни на канонерские лодки и пароходы размещали только лежачих раненых да мамаш с грудными младенцами, распределяя всех, что называется, «поверх груза». Потом пришлось поступиться всякими привилегиями и дойти до погрузки «навалом»: людей помещали в любые углы и закуты, куда только можно было втиснуть, в том числе и на открытые палубы грузовых барж и буксиров.
Измотанные экипажи часто не могли попасть к себе в каюты и кубрики, забитые эвакуированными до отказа.
Все это было терпимо до тех пор, пока на озере стояла спокойная погода и фашисты вели себя не очень нахально. В штормовую погоду и во время налетов авиации проблема невероятно усложнялась.
Такова была еще одна дань импровизации, результат войны, начавшейся внезапно. Масштабы успехов противника оказались неожиданными, они не были предусмотрены никакими довоенными планами — ни армии, ни флота, ни любых других ведомств.
У берега не было ни одной свободной баржи, и пока внушительного вида старик урезонивал особо крикливых бабенок, один из руководителей завкома рассказывал мне про заводские дела. Я впервые узнал о том, что 670 детей кировцев, отдыхавших на станции Сиверской в пионерском лагере, в самый последний момент были направлены с Варшавской железной дороги на Московскую и дальше в сторону Ярославля. Дети остались в летней одежде, не все родители успели их повидать, и на заводе до сих пор о них не было вестей.
В другом государстве в подобных условиях были бы сотни истерик, протестов, скандалов… Я подумал, какая все-таки великая сила — советский рабочий коллектив. И в это время заметил, что от опушки леса прямо на нас движется колонна. Шли пленные — об этом можно было судить по оцеплению с автоматами, которое держалось в пятидесяти метрах от колонны.
Впереди выступал командир внутренних войск НКВД, державший для острастки в правой руке большой кольт. Время от времени он покрикивал на любопытных, чтобы они не приближались к колонне.
Надо сказать, что до этого дня ни мне, ни Авраамову не приходилось возиться с пленными. Когда фрицы приблизились к нашей группе начальник колонны остановил ее и подошел для переговоров.
Пленных было около сотни. Первые две-три шеренги состояли из офицеров, затем из вахмистров и фельдфебелей, заканчивали строй невзрачные ефрейторы. Одеты они были по-разному, но вид имели не особенно удрученный.
Из всех выделялся летчик, стоявший на фланге первой шеренги. Он, очевидно, был старшим. Его отличала ленточка железного креста в петлице и карикатурно задранная вверх тулья фуражки с орлом ВВС. На летчике было щеголеватое пальто-реглан из тонкой желтой кожи, перетянутое тугим поясным ремнем, сапоги обтягивали ноги, как перчатки, а одна рука лежала на груди, подвешенная на хирургической косынке.
Никто из остальных не имел такого шикарного вида. Этот франт явно не был рядовым летчиком. Наша ПВО сбила либо командира части, либо штабного ферта. Последнее как бы удостоверялось его надменным видом и презрительным прищуром белесых «арийских» глаз.
Любопытство охватило пассажиров. Перебранка темпераментных ленинградок почти смолкла, и проходившие мимо рабочие остановились, несмотря на грозные окрики начальника конвоя.
Допускаю, что воздушный красавчик понимал по-русски, скрывая это. Но смысл последующей перебранки был понятен всякому.
— Кто здесь за старшого? Вы?.. Так вот! Надо немедленно этих немцев с охраной перебросить в Новую Ладогу!
— У нас нет сейчас тоннажа!
Я заметил, что летчик с высоченной фуражкой, став в картинную позу, насмешливо следил за моей дискуссией с главным конвоиром, а находящийся рядом с ним ординарный гауптман все время оглядывался по сторонам, словно запоминал и подсчитывал все, что находилось на берегу. Что это — профессиональная привычка, или он еще рассчитывает сбежать и вернуться к своему оберсту с «ценными сведениями»?! Трудно сказать, но его любопытство бросалось в глаза, особенно на фоне остальных пленных — апатичных и в то же время настороженно-боязливых.
Воздушный хлыщ явно понимал одно: он пока еще нужен большевикам, его вывозят для допроса в какой-то высший штаб, может быть, даже в Москву, хотя, по имеющимся сведениям, она «буквально накануне захвата» центральной группой армий… С него пока довольно. Вот почему он спокоен, высокомерен и не скрывает презрения. Таких врагов, начиная с 1939 года, он уже много раз видел. Летчик с ехидством наслаждался стычкой начальника конвоя с адмиралом.
Я сразу решил Авраамова в это дело не впутывать. Где-где, а на Осиновце поводов для придирок было тьма. Пришлось повторить, что свободного транспорта пока нет.
— Это меня не касается, — отрезал конвоир, распаляясь. — Вы что не видите — задача первейшей государственной важности…
— Здесь все задачи первейшей государственной важности… Видите станки? Это для танкового производства… и то тоннажа не хватает. А между прочим, по поводу их переброски есть специальное правительственное постановление… Что же касается военнопленных, то о них я никакого решения не знаю.
— Так вам что, бумага нужна? — вспылил мой собеседник, уже не считаясь ни с пленными, ни с рабочими и женщинами, которые незаметно заполнили площадку за моей спиной.
Немец наслаждался несдержанностью начальника конвоя, который с треском расстегнул свою полевую сумку и еле нашел нужную бумагу. Тоже характерно… Конвоир привык, что по его слову «Сезам, отворись!» — все делалось без предъявления каких-либо документов.
Развернув восьмушку бумаги с соответствующим штампом, я прочёл и показал Авраамову типичное произведение людей, привыкших повелевать луной и звездами. Во-первых, оно было адресовано в пространство: «Ладожской Военной флотилии» — без указания, кому именно. Во-вторых, состояло из трех строк: «Предлагаю немедленно переправить»…
Никто, кроме Командующего Балтийским флотом и Главкома, не имел права ставить задачи военной флотилии. Если же подходить формально, то такое предписание без точного адреса вообще было юридически недействительным.
Не помню, чем еще грозил начальник конвоя, потеряв над собой власть. Откровенно говоря, злорадная физиономия немца меня задевала больше. Еще я успел заметить сочувствующее мне лицо старого кировского бригадира.
Мозг лихорадочно работал.
Так или иначе, а пленных придется переправить на Большую землю. Это ясно. Если умыть руки, съедят Авраамова, да и на меня навесят столько собак, что доказать, что я не верблюд, будет очень сложно.
— Вот что!..— твердо перебил я своего оппонента, — отведите своё воинство в лесок, а то неровен час налетят «юнкерсы» и вы недосчитаетесь нескольких своих подопечных;
— сами можете воспользоваться Бодо и доложить на Литейный или в Смольный о причине задержки;
— а как только появятся с того берега первые баржи или пароход, он, — показал я на Авраамова, — в первую очередь отправит вас в Ладогу! У меня всё!
То ли упоминание о «юнкерсах», которых конвоир совсем упустил из вида, то ли твердый тон, к которому он совершенно не привык, но начальник конвоя, пробурчав что-то, приказал помощнику двинуть колонну к опушке. Леса он, видимо, избегал, остерегаясь, как бы кто-нибудь из пленных не «смылся». Потом он потребовал, чтобы ему дали прямой провод с Ленинградом.
Не успел я перевести дух после этого разговора, стоившего мне немало сил, как произошло нечто совершенно неожиданное. На меня двинулась затихшая было группа женщин Кировского завода во главе со старым бригадиром, слушавшим перепалку и всем своим видом, выражавшим мне одобрение. Теперь это был совсем другой человек. На меня воинственно напирал разъяренный старик.
— Так!..— кричал он хриплым и грозным голосом. — Значит, убийц и фашистов в первую очередь на тот берег?.. Так? Так?.. А наших жён и матерей здесь мурыжить… пока их с детьми эти кровопийцы не разнесут?! Ты что же это — непартейный или несовецкий человек?.. А ещё адмиралом величаешься… сукин ты сын!
Это было так неожиданно, что я даже не сразу заметил, что с первых же его слов вступил хор женщин, которые вторили старику разными голосами, выкриками, истерическими взвизгами.
Я не видел, как радовался этому обороту дела фашистский хлыщ. Надо было смотреть в оба, чтобы не получить в голову один из тех предметов, которые два часа назад мы сложили на пристани, уговорив отъезжающих не брать их в далекое путешествие (вот уж действительно — «себе на голову»).
Увидев, что немцев отгоняют к лесу, я невероятно разозлился из-за того, что меня незаслуженно назвали «сукиным сыном», и, прибегнув к «большому морскому загибу», стал сам орать. Командир базы и все моряки меня вдохновенно поддержали.
Меня ждали в Морье и в Смольном. Но было ясно, что инцидент не исчерпан, и мой отъезд здесь сочтут дезертирством. Выдохшись и поостыв, я сделал рукой знак, чтобы все помолчали, и обратился к старику:
— Вам что было сказано до прихода этих немцев?.. Что тоннажа нет, а утром будет отправлена следующая партия?.. Так?
— Так!
— Ну так вот вам слово адмирала. Уговор остается в силе. Утром отобранная и проверенная группа выйдет в озеро! Ясно?
— Ясно!
… В комнате маяка, которая служила диспетчерской, заперлись четыре человека и, точно выяснив местоположение всех плавсредств и прогноз погоды на ночь, отдали соответствующие распоряжения. Ночью меня никто не беспокоил, хотя сквозь сон я слышал какую-то возню. Командир базы лежал рядом на топчане и, казалось, отсыпался «назад» — за прошедшие бессонные ночи, а заодно и «вперед» — за будущую возню с перевалкой грузов и пассажиров, конца которой не было видно.
Только я вздумал хлопнуть Авраамова по плечу, заготовив каламбур о «сонях», как его адъютант тихим, то умоляющим голосом доложил:
— Не больше часа как лег… Всю ночь на ногах… Ругался сам на полный ход, а вас приказывал не тревожить.
«Пусть отлеживается! Впрочем, где тут отсыпаться?.. Через час эта чертова мельница опять будет крутиться «на полный ход».
Утро было великолепное.
Стояла замечательная ленинградская осень. Тишина, изумительно прозрачный воздух, бодрящая прохлада… Редкие лиственные деревья горели золотом всех проб на фоне тусклой синевы хвойного леса.
Ранние дымки из-под котлов на опушке тонкими струйками восходили в бледную синеву безоблачного неба и растворялись на высоте корабельных сосен. Словно туристы стали на привал…
О войне даже не думалось, вернее, не хотелось думать. Но пришлось.
— Перед рассветом появился не то «мессер», не то «хейкель», но на такой большой высоте, что стрелять не имело смысла, — доложил дежурный офицер флотилии.
— Обнаружили стервеца только потому, что он не сообразил, как освещается лучами восходящего солнца… Временами пропадал из поля зрения, а на виражах сверкал, как осколок зеркала… Куда и как ушел — не заметили.
«Ну-ну!.. Куда ушел — ясно. И ничего хорошего не предвещает!»
С приступки поднялся старый кировец, глава отправляющихся хозяек. Утомленный и не выспавшийся, но отнюдь не смущенный. Очевидно, он счел за благо забыть, с каким азартом вечером крыл адмирала на все корки, не пожалев его родню, не стесняясь женских ушей.
Я поймал себя на том, что никакой обиды или тем более злости не испытываю.
— Здорово, папаша!
— Будь здоров!..— отвечал он, скрывая полуулыбку под усами.
— Ну… как дела?
— Да вот опять кировские накапливаются… Опять остервенелые… Опять с багажом, не только сверх нормы, но и сверх сил…
Ни слова о фрицах. Ни слова о вчерашнем эшелоне или о нашем столкновении. Я понял, что план Авраамова удалось осуществить.
Дальнейшей дружеской беседе помешал сильный налет юнкерсов. Об их приближении оповестили белые и грязные кляксы на небе, вслед за которыми послышались залпы зениток, стоящих, очевидно, около станций Рахья и Ржевка. Объекты подле них считались более ценными и охранялись средствами ПВО. Для непосредственного прикрытия сооружаемых гаваней зениток не хватало.
Старика кто-то увел в ближайшую землянку. Остальные попрятались — кто куда, включая выбежавших из маячной пристройки.
Я остался с досадой и злобой смотреть, как изворачивались два наших И-16, подоспевших с опозданием и с трудом нагонявших Ю-88, а иногда отстававших от них даже на прямой.
Картина воздушного боя была совершенно непонятна, вернее, невидима, так как фашистские летчики проходили на такой незначительной высоте, что периодически скрывались за верхушками леса, как и их преследователи.
Взрывной волной било по ушам, а иногда по всему телу. Затем раздавался характерный звук взорвавшейся бомбы, и кое-где выметывался вверх столб песка, дыма и лесного крошева.
Всё это разглядывать можно было почти безопасно, так как главные события протекали ближе к опушке леса и к югу. Очевидно, сверху были хорошо видны расположенные там штабеля патронных ящиков и снарядов.
Судя по тому, что на земле не произошло большого взрыва, немцам не удалось попасть ни в один из импровизированных складов на грунте.
Как неожиданно началось это нападение, так же неожиданно и закончилось.
Мне надо было в Морье.
Сделав рукой прощальный привет — всем и старику отдельно, — мы с Петровым — уполномоченным Кировского завода — направились к мерседесу.
— Ну и хитёр! — произнес, ни к кому определенно не обращаясь, с улыбчивым раздумьем Петров.
Потом он с решительным видом двинулся к Авраамову, который еще не вполне проснулся. Судя по всему, старик так и не догадался, в чем заключался наш маневр.
Только в Морье можно было понять всю затею в целом, так как было неловко расспрашивать командира базы при других. Теперь при помощи Феди Зверева и Сережи Белоусова всё прояснилось.
Накануне, как только совершенно стемнело, катер «МО» (малый охотник) находившийся в распоряжении Авраамова, стараясь меньше обращать на себя внимание, тронулся малым ходом на север, а затем повернул на северо-восток, на просечку курса очередного «конвоя», как солидно именовались караваны из барж во главе с вооруженным буксиром или сторожевым кораблем флотилии.
Мы старались пересекать южную часть озера по ночам, так как главным противником конвоев были немецкие самолеты или белофинские торпедные катера. (В числе финских и немецких «москитных сил», организованных врагом после занятия Сортавалы и Валаамского архипелага, появились и отдельные «мотоскафы», которых итальянцы обещали прислать своим союзникам в массовом количестве, благо их можно было к Ладожскому озеру доставлять по железной дороге. Однако впоследствии этой «массы» не оказалось. Очевидно, самим итальянцам они были нужны еще больше, в частности на Черном море.)
По этой же причине мы рекомендовали идти таким курсом, чтобы избегать сближения со своими в темноте. Нашим катерам категорически запрещалось ночью попадать под нос конвоям, которые имели право открывать огонь без предупреждения.
Только такой превосходный штурман, как С. Ф. Белоусов, смог в безлунную ночь, при погашенных маяках и ходовых огнях найти караван почти на кромке банок Песоцкого Носа, которые имели дурную славу «кладбища», зайти с кормы и опознавательными сигналами предотвратить стрельбу. Потом один буксир с двумя баржами направился в Морье, предоставив остальным продолжать путь к Осиновцу.
В то же самое время начальник охраны военнопленных получил записку на блокнотном бланке члена Военного совета: «Немедленно поднять пленных и бесшумно перевести своим ходом в бухту Морье на погрузку».
Не знаю, что именно подействовало; служебный бланк, тон предписания или влияние уполномоченного НКВД при штабе базы флотилии, но все было точно выполнено. Правда, сначала начальник конвоя очень опасался 15-километрового марша в темноте и вдоль опушки леса, и поэтому охрану усилили несколькими вооруженными матросами.
В Морье баржи были поставлены вдоль незаконченного железнодорожного пирса, где пришлось выгрузить как попало ящики с зенитным боезапасом. К работе привлекли немецких пленных. Сообразив, что тем самым ускоряется их отправка «нах Москау», они охотно нам помогали. Работали все, кроме господ офицеров, по-видимому, мечтавших присутствовать при капитуляции Ленинграда. Так или иначе, через два часа буксир уже тянул две баржи с фрицами в сторону Новой Ладоги, будучи вне видимости с шлиссельбургского берега, а остальная часть каравана приближалась к незаконченным причалам Осиновца. Здесь, несмотря на предрассветное время, отъезжающие хозяйки уже начали баталию. Им еще предстояло переждать выгрузку ящиков и кулей для осажденного города и погрузку станков и технических грузов их же прославленного и недавно награжденного Кировского завода. Впереди у них был почти целый день топтания на месте и ругани с грузчиками, охраной, уполномоченными и многими другими, на кого они продолжали наседать.
Конечно, вся операция была простой перестановкой слагаемых.
Отсутствие двух барж, ушедших раньше с немцами, повлекло за собой ещё большие тесноту и трудности, чем мы ожидали. Всё это вызвало задержку с отходом часа на два. Но угрызений совести у меня не было. Ведь трудная задача была выполнена.
К счастью, все кончилось благополучно. Нам благоприятствовала безлунная ночь, полный штиль, искусство Белоусова и то, что удалось сохранить маневр в тайне.
Впрочем, не всё обошлось так благополучно, как мне казалось, потому что юзо-грамма, посланная начальником конвоя еще днем, после первой с ним стычки, продолжала действовать. Первое, что я услышал через сутки в Смольном, было произнесенное ледяным тоном:
«Представьте письменные объяснения, почему вы отказались переправить через озеро более сотни высших офицеров гитлеровского вермахта, взятых в плен ценою большой крови наших доблестных защитников, где они находятся сейчас и когда и как будут переправлены?»
Пришлось, не отвечая ни слова, написать предельно краткое, хотя и запоздалое «объяснение», так как приказ исходил от старшего.